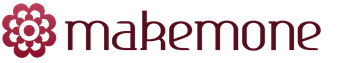На «Военном обозрении» в разделе «Национальная безопасности» стараемся не упускать из виду тему, которая, несмотря на кажущуюся её удалённость от вопроса безопасности, играет в нём одну из первостепенных ролей. Речь идёт о демографических показателях России и сопутствующих демографии явлениях и процессах. Сегодняшнее рассмотрение этого вопроса связано не столько со всеобщей российской демографией, её показателями и проявлениями, сколько с более узким направлением. Направление это – русское село. И здесь нет никакой ошибки – именно Русское село. А именно, те сельские территории Российской Федерации, которые испокон веков заселены русскими, и которые сегодня (при всех, казалось бы, позитивных демографических процессах) испытывают колоссальные трудности.
Для начала – официальные цифры демографического характера от Росстата, подведшего итоги оценки численности населения РФ за 2016 год. Показатели Федеральной службы государственной статистики говорят о том, что постоянное население Российской Федерации в 2016 году выросло в сравнении с 2015-м годом примерно на 200 тысяч человек и составило 146,5 млн граждан. Для любого представителя власти, который хоть какое-то отношение имеет к демографической отчётности, на этих данных можно, что называется, откупоривать шампанское: прирост есть, а углубляться в детали – «от лукавого»...
Однако, равноудаляясь как от либерального нытья о «#всёпропало», так и от псевдопатриотических бравурных лозунгов в стиле «демографические проблемы полностью решены», с уверенностью можно заявить, что одно дело – прирост народонаселения в целом, и совсем другое – вопросы титульной нации. Да, ныне действующая конституция о существовании таковой как бы «забывает», но это никак не отменяет того факта, что именно русский народ (в самом широком смысле этого слова) является государствообразующим для России. Ни о какой, слава богу, «исключительности» русского народа речи не идёт, но одновременно с этим вполне можно называть странным нежелание власть имущих поднимать столь острый вопрос как демографические проблемы русского населения, проблемы русского села, русской глубинки.
Почему же упомянутые власть имущие предпочитают о такой проблеме речи не заводить? Да всё просто. Как только этот вопрос будет поднят на высоком (или относительно высоком) уровне, так тут же смазывается красивая и яркая картинка о том, что с демографией в России всё замечательно. Мало того, размытие картинки по определению должно приводить к необходимости для власть имущих начинать работать интенсивнее, а на интенсив в таком деле не каждый из готов – так уж сложилось... Чем мягче кресло и чем больше спецтелефонов в кабинете, тем, как это часто бывает, с интенсивом в вопросах решения внутрироссийских проблем сложнее...
Однако, снова – к статистике Росстата. Исторически в России (с момента начала осуществления статистических исследований – 1913 год) никогда не было столь большого разрыва в численности городского и сельского населения, как за последние годы. Данные говорят о том, что на конец 2016 года в России горожан было 108,6 млн человек, жителей сельской местности – 37,9 млн. Процентное соотношение: 74 процента к 26-ти. По отчётам за краткосрочный период (январь-февраль 2017 года) процент сельского населения впервые в упал ниже 26, достигнув отметки в 25,9%. Близкие к нынешним параметры были в СССР (РСФСР) в эпоху развала – в 1990-1991 годах, когда только начинала своё деструктивное шествие по стране идеология о том, что развитие сельского хозяйства стране не нужно, так как «вокруг друзья», и эти «друзья» обеспечат нас продуктами питания, ибо «мы строим демократию, а это главнее выращивания пшеницы».
Сегодня, слава богу, начали соображать, что выращивание той же пшеницы куда полезнее построения навязываемого Западом лжедемократического строя. Однако, к сожалению, таких соображений пока явно недостаточно для того, чтобы решить все проблемы русского села.
Если брать статистику по субъектам РФ с подавляющим большинством этнически русского населения, то процент селян и того ниже – в среднем около 22-23%. В ряде регионов показатель просел уже и под 20%.
Итак, даже официальная статистика говорит о том, что русское село фактически вымирает. Здесь можно много говорить о том, что это лукавство, и что есть сёла, идущие по пути развития, но в целом по стране, давайте будет говорить откровенно, таковых – едва ли наберётся существенное количество.
Причины проблем с демографией в русском селе не поменялись за последние несколько десятилетий никоим образом. Главная проблема – отсутствие должного числа рабочих мест, тянущее за собой целую гору проблем социального и экономического характера. Другими словами, проблема была бы решена хотя бы частично, если бы государственные инвестиции на развитие отправлялись не только на развитие села чеченского, но и на развитие сельских территорий в других регионах России...
И здесь человек, который знаком с правительственными программами, может возразить, заявив, что кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым уже реализует программу, которая в конечном итоге призвана частично решить проблему с рабочими местами в сельской местности. Действительно, есть такая программа. Она описана на , возглавляемого Александром Ткачёвым. Суть программы состоит в льготном кредитовании фермерских хозяйств. Цепочка примерно такая: фермер, трудящийся «на селе», получает льготный кредит в банке под свой конкретный проект, далее этот проект реализует с привлечением крестьянских кадров, одновременно с этим развивая как собственное хозяйство, так и инфраструктуру села.
Вроде бы всё здорово, а особенно здорово то, что Ткачёв обещает фермерам банковские кредиты по ставке менее 5% годовых. В ходе выступления главы Минсельхоза на заседании правительства было заявлено, что ряд банков, попавших в программу, выдаёт нашим аграриям кредиты и вовсе «даром» - под 2-3% годовых – ниже инфляционного уровня. Государство, мол, всё равно компенсирует.
Однако на деле программа, ой как непроста. О том, чтобы рядовому фермеру получить от банка (даже субсидируемого государством) кредит под 2-3% годовых, в реальности не идёт и речи. Банки как выдавали в лучшем случае под 14-15%, так и выдают. И заявления эти не голословны. Ваш покорный слуга – автор материала – пообщался с несколькими фермерами, владеющими сельскохозяйственными угодьями разной площади, на предмет «льготного кредитования». И ни одному из них, о чём сами и рассказали, не удалось получить кредит под упомянутый Ткачёвым низкий процент, хотя и представили все необходимые документы для получения льготного кредита.
А вот что по этому поводу заявил сам министр сельского хозяйства, выступая в правительстве:
На 22 февраля Минсельхоз включил 1420 заёмщиков в реестр на получение льготного кредита на общую сумму свыше 134 млрд рублей. Краткосрочные кредиты в сфере растениеводства планируют получить более 640 заёмщиков на сумму свыше 38 млрд.
Попытка узнать, кто же эти 1420 счастливых заёмщиков, получивших льготные кредиты, успехом не увенчалась. Эта информация удерживается на данный момент в тайне с аргументацией следующего характера: банки не имеют права раскрывать данных о своих клиентах. Ну да... Ну да...
На практике оказывается, что счастливыми обладателями льготных кредитов, которые в рамках госпрограммы предоставляют банки, становятся вовсе не рядовые фермеры. Вовсе не те, которые реально живут на селе и готовы не просто получить средства на собственное производство, но и в итоге вложиться в развитие сельской инфраструктуры – развитие школ, ФАПов, открытие спортивных секций для молодёжи, строительство и ремонт дорог. Кредиты получают те, кого принято называть «аграрным крупняком» - кто в погоне за личной прибылью не готов обращать внимание на «социалку», а готов завозить в русскую деревню среднеазиатских гастарбайтеров, чтобы иметь возможность получить ещё больший «навар». Получил кредит под 2% годовых – быстро отстроил, к примеру, маслозавод, сверкающий на солнце, завёз полсотни «гастриков», а село... «а что село... пусть спивается дальше... чего ж это я должен обращать внимание на их проблемы...» Село как стояло с прогнившими и покосившимися избами, зияющими пустыми глазницами окон, так и стоит. А в отчётах – всё замечательно: «есть системообразующее предприятие – маслозавод». А то что «завод – отдельно, село – отдельно», тех, кто эти отчёты читает по диагонали, беспокоит мало.
В связи с этим – вопрос: а наши эффективные менеджеры в курсе того, по какому пути на самом деле идёт реализация «сельскохозяйственной» программы, и что доступ к ней имеет очень-очень узкий круг лиц? Или это тот самый случай, при котором отчётность - всё, а судьбы людей в глубинке – дело десятое?.. А если так, то какая уж тут демография...
Проблема вымирания российской деревни является одной из острых социально-экономических проблем современной России. Центр экономических и политических реформ изучил этот вопрос, опираясь на статистические данные, результаты социологических исследований, а также работы исследователей-демографов. Мы попытались ответить на вопрос: как и почему происходит вымирание российских деревень?
В течение последних 15-20 лет постоянно уменьшается численность сельского населения – как за счет естественной убыли населения (смертность превышает рождаемость), так и за счет миграционного оттока. Процесс депопуляции сельских территорий настолько активен, что постоянно увеличивается число заброшенных деревень, а также количество сельских населенных пунктов с небольшим числом жителей. В некоторых субъектах РФ доля обезлюдивших деревень превысила 20% – в основном, в регионах Центральной России и Севера. Только в период между переписями населения 2002 и 2010 годов число обезлюдивших деревень выросло более чем на 6 тысяч. В более чем половине всех сельских населенных пунктов проживают от 1 до 100 человек.
При этом процесс депопуляции в территориальном разрезе идет неравномерно. Происходит концентрация сельского населения вокруг отдельных «очагов» при одновременном расширении областей депрессивных сельских территорий, для которых характерна постоянная депопуляция.
Основные причины уменьшения численности сельского населения лежат сугубо в социально-экономической плоскости. Прежде всего, для сельских населенных пунктов характерен более низкий уровень жизни и сравнительно высокий уровень безработицы, в том числе застойной. Активная часть трудоспособного населения уезжает в города, что в свою очередь способствует дальнейшему социально-экономическому застою, деградации и депопуляции сельских территорий. Другая проблема, являющаяся одной из причин оттока сельского населения из страны, – более низкое качество жизни сельского населения из-за невысокой доступности объектов социальной инфраструктуры (образовательной, медицинской, досуговой, транспортной) и основных услуг (прежде всего, государственных и муниципальных услуг), а также жилищных условий и недостаточной обеспеченности жилищно-коммунальными благами.
В частности, выявлено, что за последние 20 лет сельские населенные пункты не только не нарастили, но и в значительной степени утратили социальную инфраструктуру из-за процессов «оптимизации», которая особенно сильно затронула именно сельские территории. За последние 15-20 лет количество сельских школ уменьшилось примерно в 1,7 раз, больничных организаций – в 4 раза, амбулаторно-поликлинических учреждений – в 2,7 раз.
Процесс депопуляции сельских территорий не является уникальным российским явлением, он во многом схож с аналогичными процессами в других странах. При этом процессы депопуляции и опустения сельских территорий идут в России по сравнительно негативному сценарию, связанному с гиперконцентрацией населения в столице и крупных городах и более характерному для стран Азии и Латинской Америки.
Сегодня отдельные меры по сдерживанию депопуляции сельских территорий в России предусмотрены на уровне государственных программ. Однако следует признать, что общее направление государственной политики ведет к концентрации финансов, рабочих мест и, как следствие, населения, в столице и других крупных городах. Попытки сохранения численности сельского населения и стимулирования миграции населения в сельскую местность не работают, поскольку точечные меры проваливаются из-за фактического отсутствия условий для развития сельских территорий.
С подробными результатами проведенного исследования можно ознакомиться .
1neurozentorro1 в И снова к вопросу облика и благосостояния деревень в Российской Империи.Село Пралевка, Лукояновского уезда Нижегородской губернии. 1890-е г.г. Наглядно видны как роскошное состояние фешенебельных особняков селян, так и великолепные уличное мощение, освещение и благоустройство.

Если опускать дискуссию подлинности этих фотографий (которая сразу же разгорелась в сообществе), то не вооруженным взглядом видна вопиющая нищета.
Человек, разместивший эти фотографии, выдвигает политическую теорию бедности:
«В отличие от зажиточных и благосостоятельных сёл Русского Севера, сёл, куда не показывались рыла помещика и чиновника, горемычная "Средняя Полоса" пребывала в полнейшем убожестве быта».
Некоторые украинские блоггеры, мучаемые болезнью национализма, в своих сообществах полагают, что дело все в том, что русские сами по себе грязнули и вообще противные бяки. В ход идут мощные цитаты:
И вот еще интересный пример:
Однако, что интересно. А как сейчас поживают эти деревни? Может быть, они наконец-то процветают? Боюсь, что все совсем наоборот. Их скорее всего уже и нет. Они все вымерли. Либо в процессе вымирания, населенные стариками и алкоголиками. Это настоящие очаги социального неблагополучия. Деревни средней полосы уже мало что дают из сельского хозяйства, зато обильно снабжают города проститутками и лихими людьми. В лучшем случае, деревни постепенно превращаются в дачи или, если поведет коттеджные поселки. Но это уже не деревня, это субурбанизированная территория, придаток городов.
Неужели в этой трагедии, в этой безысходной нищете, от которой опускаются руки, виноваты хищные чиновники? Ведь уже давно «грабить» нечего? Сейчас нефть, а не пшеница в приоритете. Почему же тогда деревни в Средней полосе оказались в еще большем запустении? Или все же «виноваты» особенности русского характера? Но ведь есть юг России, есть русский Север, есть Сибирь. Там такой нищеты нет.
Думаю, что ответ на этот вопрос, с одной стороны фундаментальнее, с другой - гораздо проще. Он лежит на поверхности. Есть такая замечательная статья Л.В. Милова (член- корреспондент РАН, профессор МГУ) под названием «К вопросу о фундаментальных факторах в русском историческом процессе». Этот ученый как раз специализировался на этой теме. И, кажется, он уже все сказал. Я не буду изобретать велосипед, а просто изложу его точку зрения по этому вопросу.
По мнению Л.В. Милова, нищету деревень Центральной России практически полностью объясняют природно-климатические факторы.
Я кратко опишу эти факторы. Уверен, они всем известны. Но вот аргументация, факты - на мой взгляд, любопытны и представляют отдельный интерес.
Итак, каковы причины крайне убого состояния Российских деревень Средней полосы?
1) Самое очевидное - это то, что земли в большинстве регионов Центральной России малоплодородны. Поэтому эти территории и называют Нечерноземьем.
Но это полбеды.
2) Серьезным недостатком является необычайная кратковременность цикла сельскохозяйственных (земледельческих) работ.
В Центральной России земледельческий сезон длится всего пять месяцев (с середины апреля до середины сентября). Милов приводит в пример Францию, где продолжительного этого сезона составляет уже 10 месяцев, то есть в два раза длиннее.
2) Недостаточная «фондовооруженность» труда в плане использования лошадей.
Качество обработки пашни напрямую зависит от силы конной тяги. У нас же лошадей было мало и они сильно недоедали. Причина в том, что продолжительное время стойлового содержания скота (198—212 суток). В то время, как период заготовки кормов был очень коротким (20—30 суток).
В XVIII в. при нормах суточной дачи сена в стойло 12,8 кг даже дворцовые (царские) лошади в Центральной России получали по 2,9—2,8 кг, а племенные жеребцы по б кг. В лучших имениях лошади при работе получали по 8 кг в сутки. Но неработающие лошади получали не более 4 кг сена. Остальной корм — это солома в виде сечки (иногда очень мелкой), облитой горячей водой.
Таким образом, крестьянская слабосильная, особенно по весне, лошадь еле тащила соху, а качество работы серьезно страдало.
3) Недостаточное удобрение сельскохозяйственных земель. Это прямое следствие недостатка крупного рогатого скота, которого не удавалось прокормить.
Пашня крестьян удобрялась не раз в три года, как полагалось, а раз в шесть лет (и это идеально), чаще же — раз в 9—12 лет и реже.
При нормальной обеспеченности навозом, по данным В.И.Вильсона, необходимо было иметь на десятину пара шесть голов крупного рогатого скота. А во многих уездах Московской губ. на десятину пара было лишь 1—1,5 головы крупного рогатого скота, что эквивалентно нормальному унавоживанию лишь раз в 12—18 лет. В Тульской губ. посевы удобрялись раз в 15 лет, а в Орловском уезде Вятской губ. пар удобряли раз в 12 лет и т.д.
Таким образом, крестьянская слабосильная, особенно по весне, лошадь еле тащила соху, а качество работы серьезно страдало. В частности, в одной из инструкций приказчику тульского имения помещик прямо предупреждал: "У них (крестьян. — Л.М.) лошади весною от бескормицы тощи и малосильны"
Что из этого следует?
Во-первых, авральных характер работ.
Л.В. Милов пишет:
Это был всегда "аврал", буквально страдание крестьянина и его семьи, ибо необходимы были рабочие руки и старых, и малых. Причем дети в XVIII в. работали даже на барщине.
Во-вторых, никуда от этого не денешься, падает качество работ. Крестьянам приходится концентрировать свои усилия на обработке одних участков земли, пренебрегая обработкой других.
Наиболее взвешенные и обобщающие данные губернаторских отчетов за последнюю четверть XVIII в., обработанные Н.Л.Рубинштейном, свидетельствуют о том, что при среднем наделе пашни в Нечерноземье в 3—3,5 десятины на душу м.п. фактический посев и пар составляли всего лишь 53,1% этого надела. Остальная пашня просто не использовалась.
И даже такая концентрация не помогала. Занятие сельским хозяйством оказывалось просто нерентабельным.
С точки зрения чисто экономической, труд крестьянина в нечерноземной полосе был абсолютно нерентабельным. Если суммировать всю господскую пашню этих селений и рассчитать средневзвешенную плату за обработку одной десятины, то она окажется равной 7 руб. 60 коп.
В то же время примерный расчет цены готовой продукции на рынке, сделанный по Вологодскому уезду, показывает следующее. В 50—60-х годах XVIII в. при средней цене ржи в 1 руб. за четверть, овса в 60 коп. за четверть3 при урожае в сам-8 ржи и сам-5 овса доход составил бы в 9 руб. 40 коп. При учете дохода с других культур его можно повысить до 10 руб. на два поля, т.е. в итоге доход равнялся бы 5 руб. на десятину. Иначе говоря, цена труда в 1,5 раза выше дохода.
Л.В. Милов рассчитывает цены и по другим губерниям. Результат такой же или даже хуже. Также он проводит очень любопытное исследование (правда методом парной регрессии, что может вызвать вопросы). Автор оценивает связь между урожайностью и ценой на хлеб в разных губерниях. По идее такая связь должна быть. Большой урожай - цены падают, маленький - растут. И так оно и происходит в Черноземье. Но не в Средней полосе. В этих регионах связи между местным урожаем и уровнем цен на хлеб просто нет. Этот факт как раз подтверждает гипотезу о нерентабельности сельского хозяйства в этих регионах. Цены формировались без учета издержек (которые были значительно выше). Видимо, нечерноземные губернии датировались из более благополучных регионов, что позволяло держать низкий уровень цен.
Как же крестьяне выживали?
Во-первых, они занимались ремеслом. Время на это у них было, так как сельскохозяйственный цикл был коротким.
Во-вторых, за счет формирования крупных форм хозяйствования (община), которые позволяют повысить производительность за счет эффекта масштаба и снизить индивидуальные риски голода.
Но нужно подчеркнуть, что крестьяне в этих условиях именно выживали, а не жили. Конечно, это отражалось и на их характере и на отношении к элементам материального благополучия. Это психология. Если у тебя не получается сделать что-то хорошо, достичь цели, и эти ограничения объективны, непреодолимы, то так естественно махнуть рукой. Нищета сгибает человека, ломает его. Руки сами опускаются.
крестьянин "худым урожаем пуще огорчается и труд... в ненависть приемлет".
Зачем же крестьяне жили в этих губерниях, почему не уходили? Во-первых, это привычка, это могилы родителей, предков. Родная земля. Во-вторых, идти-то некуда. На юге тоже люди живут. Третье - и это главное, - а кто же их пустит? Крестьяне были прикреплены к своей земле, не имели паспортов. Власть отлично понимала, что дай им свободу и сердцевина России опустеет.
Уже во второй половине XVIII в. известный дворянский публицист князь М.М.Щербатов… считал, что внезапная отмена крепостного права приведет к массовому оттоку крестьян, ибо они оставят неплодородные земли и уйдут в земли плодородные. "Центр империи, место пребывания государей, вместилище торговли станут лишены людей, доставляющих пропитание, и сохранят в себе лишь ремесленников..."
В конце концов так оно и произошло.
…в середине XX в. Разрешение Н.С.Хрущева на выдачу паспортов колхозникам в конечном счете привело к массированному пополнению городов и снижению плотности сельского населения нескольких десятков областей Нечерноземья до уровня плотности населения Камчатки.
На мой взгляд, эти факты убедительны. Отнюдь не власть виновата, и не народ. Природа. Против нее не попрешь.
Сейчас еще остаются деревни в Средней полосе и в других местах, неблагоприятных для сельского хозяйства. И это проблема. Умирание деревень - тяжелый процесс, это всегда личные трагедии. И непонятно, что тут поделать. Поддерживать деревни? Так ведь государство не в силах. Денег нет.
Да и смысла экономического нет. Сейчас, конечно, новые технологии способны повысить продуктивность сельского хозяйства в Нечерноземье. Но гораздо большее влияние они окажут на земли, благоприятные для сельского хозяйства. В современных условиях нет нужды, чтобы такие огромные площади земли были выделены под сельское хозяйство. Также как и нет нужды в том, чтобы 80% населения жило «на селе». Так что, как не смотри на этот вопрос, сельское хозяйство в Средней полосе, в Нечерноземье экономически нецелесообразно.
Содействовать переселению? Так ведь старики не поедут. Это очевидно. Поедут алкаши, пропьют квартиры в городах, вернуться обратно в деревню. Да и это не выход. Ну дашь ты квартиры в районом центре. Так ведь большинство этих городов сами далеко не в лучшем состоянии. Ни инфраструктуры, ни образования, ни здравоохранения, ни работы. Никаких перспектив. Давать в областных центрах? В конце концов, по этой логике, всех нужно будет переселить в Москву или, на худой конец, в крупные мегаполисы - миллионники. И лишь для любителей тишины, природы оставить малые города. Это, наверное, вариант. Возможно, так оно и произошло в более развитых странах. Но тут голос возвышает геополитическая и военная логика. У нас слишком большая страна, небольшое для таких размеров население, ограниченное количество современных городов. И, в отличие от Канады, мы граничим не с пингвинами, а с вполне себе зубастыми соседями.
В общем, вопросы остаются.
память об этих людях скоро останется только на фотографиях ">память об этих людях скоро останется только на фотографиях " alt="Вымирающие деревни России.память об этих людях скоро останется только на фотографиях ">
Фотограф Павел Капустин из Брянска в течение лета 2014 года ездил по отдаленным деревням, в которых осталось всего по несколько жилых домов. Туда не ходит общественный транспорт, а дороги, если они и были, давно заросли. Результатом поездки стала серия фотографий «Забытая Россия». Бабр публикует некоторые фотографии умирающих деревень и их последних жителей
Павел Капустин о проекте «Забытая Россия»:
«Таких мест очень много и городские жители, порой, даже и не задумываются, как эти люди живут, выживают, существуют. Я хочу рассказать об этом и показать.
Герои фотопроекта - простые жители отдаленных сел и деревень, которые уже и не надеются на помощь извне, живут собственным хозяйством и их можно пересчитать по пальцам. Они - то самое, исконно Русское, простое, незамысловатое, и в то же время с очень сложной судьбой. На наших глазах исчезает российская деревня, ее уникальная бытовая культурная среда, ее неповторимый колорит, созвучие с природой человеческого уклада и бытия.»

Первый дом в деревне Шапкино, который был виден с дороги, зарос так, что виднелась только крыша.

В деревне всего два жилых дома. Остальные заброшены и заросли так, что к ним даже не пробраться. В одном доме живет Елена с мужем, кошкой и собачонкой.


Перебрались сюда из города и отнюдь не от хорошей жизни. Муж работает в райцентре, там же покупают продукты и все необходимое. Из деревни и обратно - только пешком. Живут своим небольшим хозяйством, которое выращивают на грядках в огороде.

Единственный сосед Елены – Николай.

Живет он здесь с женой Ириной и матерью Клавдией Николаевной. Бабушке Клаве уже 82 года.

Дочь Николая живет в городе, приезжает очень редко. Ирина показала ее на фото. (голые девки рядом - это не она))), просто так нравится хозяину).



Зубастый охранник живет в одной из перевернутых бочек.

На огороде все ухожено и обработано. Что посадили и вырастили - то и съели. Все очень просто. Женщины следят за хозяйством и направляют умелые руки Николая в нужное русло.

Половина домов в Печках закрыты, заколочены и оставлены. Анастасия Васильевна живет в одном из сохранившихся домов. Сюда переехала из Брасовского района, из деревни Ждановка 58 лет назад, выйдя замуж. Дочка живет в соседней Щегловке, а два сына – в Людиново и Комаричах. Дети подарили ей 13 внуков и 6 правнуков. Мужа Ивана нет уже 26 лет. Он проработал всю жизнь в колхозе. Анастасия Васильевна тоже работала в колхозе дояркой.

В этом году огород пришлось сажать меньше, потому что болят ноги и уже не сможет за ним ухаживать.


За провизией нужно ходить пешком в соседнюю Щегловку, а вот с медициной тут туговато. К врачу пришлось ехать аж в Навлю. Врач прописал уколы, а колоть некому. Медпункта поблизости нет, а делать никто не умеет. Так и лежат уколы в коробочке…

В гостях у Анастасии Васильевны была невестка Евгения. Приехала погостить, да и помочь с огородом.


В деревне сейчас три жилых дома. Это один из них.

В нем живет Иван Тихонович. Он ждал гостей на шашлыки, поэтому решил хоть как-то облагородить прилегающую территорию. В этом ему помогал родственник Сергей, муж сестры, который недавно приехал погостить.


Иван Тихонович живет в доме со своей мамой. Она болеет и почти не ходит. Он за ней ухаживает и присматривает. Работает почтальоном на местной почте. В доме есть и свое немаленькое хозяйство. Это, в первую очередь, конечно же лошадь. Как же без нее в деревне?! И дрова привезти и в соседний поселок съездить. Еще есть куры, овцы, собака и пара кошек.

Дома - как и у всех

Женский уголок.

Стена в коридоре.

На таких людях старые деревни еще хоть как-то и держатся... Другие уже стали только историей. Представить какой была в жизнь в этих деревнях можно только по сохранившимся элементам обстановки и предметам быта.
Количество населенных пунктов на территории России стремительно сокращается. За последние 20 лет исчезло 23 тыс. деревень, сел и поселков городского типа.
С 1990 года в России исчезло 23 тыс. населенных пунктов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление замглавы Министерства регионального развития Сергея Юрпалова.
«За последние 20 лет мы потеряли около 23 тыс. населенных пунктов. Потеряли по разным причинам. 20 тыс. из этого числа -- села и деревни», -- заявил Юрпалов на пресс-конференции в Москве.
Основные причины исчезновения населенных пунктов -- урбанизация сельского населения, переезд в города и развитие крупных городских агломераций. Однако, считает замминистра, в будущем можно ожидать создания новых населенных пунктов в России в рамках регионального пространственного планирования, основанного на зарубежном опыте.
Юрпалов отметил, что вопросы, связанные с обменом опытом по региональному и пространственному планированию, будут затронуты в первой декаде июля в Москве на 15-й европейской конференции министров, ответственных за региональное планирование.
Вымирание деревень
Сокращение численности деревень и поселений городского типа началось в 1989 году. В период с 1989 по 2002 год, когда была проведена перепись населения, число поселений уменьшилось с 3230 до 2940. При этом число городов увеличилось на 5,9%, а число поселков городского типа уменьшилось на 351. После 2002 года поселения городского типа продолжали исчезать. К 2005 году их число сократилось еще на 380 населенных пунктов.
За 1989-2002 годы численность городского населения увеличилась на 1466 тыс. человек (1,6%), а численность проживающих в поселках городского типа уменьшилась на 2996 тыс. человек (22,2%). В 2004 году число проживающих в городах увеличилось на 0,4%, а число проживающих в поселках городского типа сократилось на 14,2%.